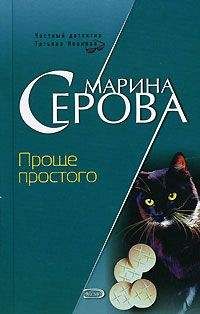Юлиу Эдлис - Ждите ответа [журнальный вариант]
— За политику? — задал он напрашивающийся сам собою вопрос
— Нимало, — коротко ответил Сухарев, все так же напряженно глядя ему глаза в глаза. — За любознательность. Почитывал на лекциях по марксизму-ленинизму Канта и Гегеля.
О чем говорить дальше, Иннокентий Павлович никак не мог взять в толк.
Наступила долгая и неловкая пауза.
— Ваша книга… — начал он было наугад, но Сухарев прервал его на полуслове:
— Которую вы наверняка не читали и навряд ли когда-нибудь прочтете.
— Признаюсь, — сознался Иннокентий Павлович, — при моем роде деятельности как-то не доходят руки до философии…
— А я и не философ, — спокойно и с достоинством отвел это извинение Сухарев.
— То есть как это?.. — стал в тупик Иннокентий Павлович.
— Я — мыслитель, — без вызова, с хладнокровным достоинством пояснил его визави, не переставая при этом с аппетитом жевать бифштекс. — Вы могли бы сказать — всего-навсего мыслитель, но я гляжу на вещи иначе: истинный мыслитель, в античном смысле слова, куда, с вашего позволения, выше, чем то, что принято называть философом. Сократ, Платон, Сенека… Выше, шире, независимее от какой бы то ни было захватанной идеи, уж можете мне поверить на слово. — И совершенно неожиданно поинтересовался: — Ваше имя — Иннокентий? В переводе с латыни это значит «невинный». Так что с вас в этом смысле взятки гладки.
— Не понимаю? — Иннокентия Павловича этот сидящий напротив с видом нескрываемого превосходства собеседник начинал раздражать все больше и больше. А не стоит ли прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, поставить точку на всей этой придуманной Абгарычем пиаровской затее?!
— У меня и в мыслях не было вас обидеть или унизить, — словно прочел его мысли Сухарев. — Тем более, вы человек молодой и наверняка совсем иного образа мыслей. Другое поколение, из другой, можно сказать, геологической эпохи, я для вас все равно что бронтозавр какой-нибудь или, скажем, даже первородная протоплазма. Тем не менее не стану скрывать, я весьма нуждаюсь в вашей помощи для издания моей книжонки. Да это и встанет вам недорого — тысячи в две, от силы в три, для вас, как я полагаю, это совершеннейший пустяк.
— А мы готовы на этот, как вы говорите, пустяк раскошелиться и на все пятьдесят, если не возражаете.
— Ну, пятидесяти тысяч она никак не стоит, — отмахнулся пренебрежительно мыслитель. — Впрочем, очень может статься, — тут же опроверг он себя, — ей, в известном смысле, и цены нет, если вдуматься. Но именно что вдумываться в истинную ценность мысли, мысли, так сказать, в чистом виде… едва ли кто в наше время станет тратить на это серое вещество.
— И все-таки о чем она, ваша книга? Ведь под письмом насчет нее, что я получил, подписи людей, которые и сами чего-то стоят.
— Я никого ни о чем не просил! И вообще все это было сделано без моего участия! — вспылил неожиданно Сухарев. Помолчал, глубоко задумавшись, пожал плечами: — О чем?.. Даже если бы я сам знал, в двух словах этого не скажешь… Да и зачем вам? Вы же это делаете ради рекламы, если уж начистоту?
— Допустим. Но пятьдесят тысяч даже для рекламы сумма приметная.
— А я и не прошу пятидесяти. Дайте ровно столько, сколько будет значиться в счете издательства. И вообще, ведите все расчеты не со мной, а с издателем, я в этом мало что смыслю, не больше, чем, извините, вы в философии.
— И все-таки, о чем ваша книга? Я ее, естественно, непременно прочту, прежде чем на что-либо решиться. Естественно, мое мнение ни вас, ни издателя ни к чему не обязывает, я — всего-навсего финансист, но должен же я знать, на что деньги трачу! Так о чем? — настоял он. — О национальной идее? Так в письме сказано.
Сухарев долго смотрел на него, как показалось Грачевскому, не то сочувственно, не то насмешливо.
— Национальных идей, молодой человек, не бывает. Это заблуждение гордыни или самообольщения. Во всяком случае, национальная идея, как и все национальное, не рукотворное дело. Ее нельзя ни измыслить, ни сформулировать. А мертворожденную матрицу вроде «самодержавие, православие, народность», или, в переводе на советский лад, «патриотизм, партийность» и еще что-то в этом же духе, выдавать за нечто всеобъемлющее… на это много ума не надо. Национальными у всякого народа могут быть только исподволь, ненасильственно, на протяжении всей его исторической судьбы сложившиеся в силу саморазличнейших обстоятельств характер, традиции, предрассудки, мифы, представления о самом себе как об определенной, самодостаточной части человечества. То есть то, что для краткости называется культурой… Идея же в том смысле, как вы ее, по-видимому, понимаете, — субстанция узко прагматическая: устройство организма государства, необходимое и полезное с точки зрения тех, кто стоит во главе его, какое удобно им, — вот и вся ваша идея.
— Ну, это уже забота политиков, а не философов, — возразил Иннокентий Павлович. — Даже, с вашего позволения, финансистов, деловых людей, администраторов…
— Мыслителей, — твердо возразил Сухарев. — То есть людей, способных извлечь из всего этого вашего винегрета нечто общее, глубинное, объединяющее, извлечь корень в окончательной степени.
— Какая же идея, в вашем смысле слова, у России? — Иннокентий Павлович вдруг устал от этого невнятного разговора, он ему просто надоел, как и сам сидящий напротив него краснобай.
— Иными словами, насколько я вас понимаю, какая идеология?.. Но, увы, должен вас огорчить — с этим покончено. Впрочем, вовсе и не «увы», а напротив, слава богу. Век всеохватывающих, обязательных к исповедованию и исполнению идей, иначе говоря — идеологий, кончился! — И ударил обоими кулаками по столу, да так и оставил их на виду.
Иннокентию Павловичу снова бросился в глаза якорь на его правой кисти. Его так и подмывало спросить Сухарева, как совмещается эта полублатная отметина с обликом чистой воды мыслителя, за которого он себя выдает?
Сухарев перехватил его взгляд и, как бы вновь прочтя его мысли, сказал с нескрываемым ироническим превосходством, которое раздражало Иннокентия Павловича во все время их застольного диспута:
— Вас, судя о всему, удивляет и мой костюм, вернее, отсутствие такового? Так это я пекусь не о теле своем, а о духе — не нами сказано: «В здоровом теле — здоровый дух». Каждый божий день, как каторжник на галерах, просиживаю штаны за письменным столом, не вылезаю из библиотек и архивов, но при этом непременно зимою — лыжи и купание в проруби, летом — походы на байдарке по какой-нибудь забытой богом реке, подальше от содомов и гоморр столичных. — И повторил, как из катехизиса непреложную истину: — «В здоровом теле — здоровый дух», очень рекомендую.
Обед, собственно, был окончен, официант уже навис над ними коршуном со счетом в руке. На счастье Иннокентия Павловича зазвонил его сотовый телефон. Он не стал его слушать, отключил, с облегчением сказал Сухареву:
— Ну вот, дела призывают, так что уж не взыщите… А книгу вашу я обязательно прочту.
Но тот, судя по всему, и не собирался вставать из-за стола.
— Надеюсь, хоть в чем-нибудь да согласитесь со мною. Хотя мне хотелось бы с вами еще и на словах потолковать, вам яснее будет, я, как вы несомненно успели заметить, люблю поболтать о разных отвлеченностях. Да и вы сами мне любопытны — первый миллионщик, которого я встретил в жизни. — Поднял на него глаза, спросил как бы у самого себя: — О чем книга?.. О России конечно же в широком и без ложного пафоса смысле слова. О том, что с ней станется в будущем, а еще вернее — что осталось от нее и что все еще является нам в памяти как бы вживе. Так, будто это не века назад происходило, а — сейчас, сию минуту, с нами самими. С вами такого не бывает?
Иннокентий Павлович вздрогнул от неожиданности: уж не прочитал ли странный этот человек в его мыслях и про злоключение с охранниками, и про статского советника, не на них ли намекает, не сводя с него глаз?
— Конечно, — согласился он растерянно. — Я…
— Не зря же ваш банк называется, если не путаю, «Русским наследием». Вот о наследии нашем общем и поговорим. К тому же мне не безразличен и тот старый дом, который вы приобрели для новой своей конторы. Дело в том, что я там как раз и проживал до недавних пор, пока вы его не приговорили на снос, а меня переселили силком мало не в Тмутаракань, впрочем, квартирка удобная, признаюсь. Но я так привык к прежней, хоть у меня и была всего одна комната, но, поверите ли, с камином, правда, я никогда его не разжигал. Да что я вам рассказываю, вы и сами небось изучили свои новые владения.
Пораженный этим и вовсе более чем неожиданным совпадением, Иннокентий Павлович не нашелся, что на это и сказать, а в лице сотрапезника ему почудились на краткое, как вспышка магния, мгновение некие зыбкие, расплывающиеся точно в тумане, но как бы знакомые черты — то лицо обрамилось пышными бакенбардами, то над кустистыми бровями вздыбился пудреный парик…